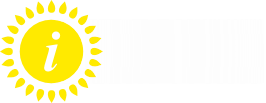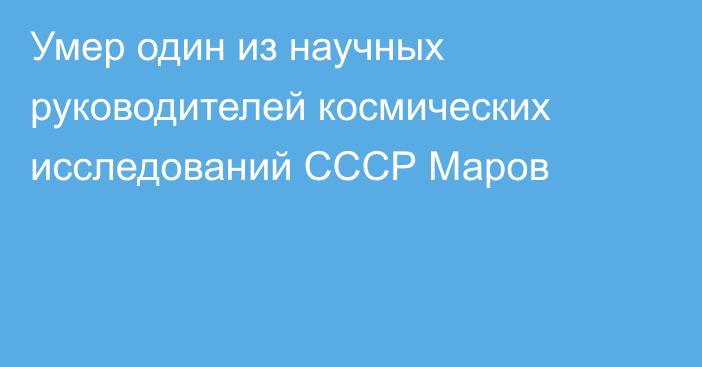
– Недавно вам исполнилось 90 лет. Космонавтика зародилась в то время, когда вам было 24 года, и все ее развитие прошло на ваших глазах. Помните ли вы запуск первого спутника?
– Да, это потрясло меня до глубины души. Мое сознание никак не могло воспринять тот факт, что рукотворное тело и впрямь летает среди звезд. Тогда я заканчивал знаменитую Бауманку (МГТУ им. Баумана) и еще не знал, что моя судьба будет связана с космосом. Так что на тот момент я вместе с миллионами других людей зачарованно смотрел в космос и слушал посылаемые «Спутником» радиосигналы.
– Как вы оказались внутри космической отрасли?
– По сути случайно. В то время нас не спрашивали, где мы хотим работать, и после окончания института меня распределили в подмосковный «ящик» (советское секретное учреждение – «Газета.Ru»), одно из подразделений которого было тесно связано с Физико-энергетическим институтом в Обнинске.
В Баумановском университете я много занимался сложным разделом механики – нелинейными колебаниями. Они оказались востребованными в атомной отрасли. Я работал на ядерных реакторах, много занимался автоматикой и электроникой. Тогда мы не знали, что реакторы, на которых проводились исследования, предназначались, помимо атомных подводных лодок, также для бортовой энергетики космических аппаратов, запускаемых в дальний космос – мудрый Сергей Павлович Королев это предвидел. Так я оказался впервые сопричастным космическим исследованиям, их, так сказать, энергетической составляющей.
Потом нашу исследовательскую группу передали в подразделение, которое занималось разработкой систем ориентации космических аппаратов, это уже в королевском ОКБ-1. Эти работы возглавлял соратник Сергея Павловича, крупный ученый — механик и математик — Борис Раушенбах, с которым мы впоследствии подружились.
В тот период я много ездил на ракетные полигоны и занимался разработкой космической техники.
На одном из мероприятий меня приметил Мстислав Всеволодович Келдыш, тогдашний президент АН СССР и «главный теоретик космонавтики», как его тогда называли. Он пригласил меня на работу в свой Институт прикладной математики, а вскоре назначил ученым секретарем Межведомственного научно-технического совета по космическим исследованиям.
На тот момент это был самый авторитетный орган в СССР по руководству космическими исследованиями и научно-техническим проблемам полетов в космос. В него входили, в частности, члены легендарного королевского совета главных конструкторов, руководители космических КБ и институтов.
Почти в то же время, по поручению Келдыша, я занялся научными проблемами исследований планет. В 1962 году американский зонд пролетел около Венеры, а первые две советские миссии к этой планете были неудачными. В 1965 году разработку венерианских зондов поручили КБ Лавочкина, созданного на базе авиационного предприятия С.А. Лавочкина, и с той поры я активно включился в исследования Луны, Венеры и Марса.
– В начале 1960-х годов человечество почти ничего не знало о Венере. На некоторых иллюстрациях ее изображали покрытой болотами и джунглями, поскольку считали более теплым двойником Земли. Какой вы представляли Венеру до того, как получили первые данные об условиях на ней?
– Мы и правда почти ничего не знали о Венере, ее природе, в особенности о том, какова ее атмосфера, что на поверхности. С этим связана интересная история. Вспомним, что в начале 1960-х годов многие исследователи считали, что Луна покрыта толстым слоем пыли. Многие боялись, что аппарат утонет в ней и не сможет нормально работать, причем адаптировать зонд к «зыбучим пескам» чрезвычайно трудно. Тогда Королев принял волевое решение – он от руки начертал на одном из документов: «ЛУНА – ТВЕРДАЯ» (в оригинальном документе «рассчитывать на достаточно твердый грунт» – «Газета.Ru»). Королев оказался прав, и миссия «Луна-9» увенчалась грандиозным успехом, когда в 1966 году аппарат впервые совершил мягкую посадку на Луну и передал панораму поверхности земного спутника.
Похожие дискуссии шли об атмосферном давлении на поверхности Венеры, и тогда Георгий Бабакин, глава КБ Лавочкина, решительно начертал на одном из документов: «рассчитывать аппарат будем на 15 атмосфер». Такой зонд и был создан, «Венера-4», и запустили мы его в 1967 году. Он вошел в атмосферу и начал спуск на парашюте, но был раздавлен при давлении 17 атмосфер, а до поверхности, как мы потом поняли, оставалось еще 23 километра.
– Когда вы поняли, что условия на Венере совершенно не похожи на земные и непригодны для жизни?
– Я в этом убедился как раз по итогам полета «Венеры-4». Тогда мы получили данные о давлении и температуре на больших высотах, и Келдыш поручил мне создать модель и рассчитать условия на поверхности.
Оказалось, что там температура почти 500°С и давление почти 100 атмосфер. О какой жизни можно было говорить в таких условиях? Это было большое разочарование.
Вместе с тем, Венера наградила нас возможностью исследовать уникальные, чуждые для нас по земным меркам природные условия. Давление — как на километровой глубине в океане, а температура – значительно выше, чем в духовке. В небе Венеры образуются экзотические облака, состоящие из капелек концентрированного раствора серной кислоты. Вот такой негостеприимный у этой планеты лик.
– Может быть, эти экзотические условия стоит обратить ученым на пользу? Интуитивно кажется, что при таком давлении в атмосфере можно чуть ли не «плавать» – например, на дирижабле.
– Можно! В начале 1980-х годов я три года посвятил советско-французскому проекту, который подразумевал запуск 16-метрового баллона на Венеру. Он создавался в содружестве с французскими коллегами, я был со-председателем проекта с советской стороны. Аэростат должен был летать (плавать) на высоте облаков, 50-55 километров. В какой-то степени этот аппарат похож на неуправляемый дирижабль, но с учетом венерианских условий — более сложен. Самой интересной частью миссии было прослеживание дрейфа аэростата под воздействием ветров в атмосфере при помощи наземной системы радиотелескопов VLBI – интерферометрии с очень длинной базой. Говоря простыми словами, наземные радиотелескопы могли отслеживать движение баллона в небе Венеры с высокой точностью, что позволило бы изучить особенности необычной циркуляции атмосферы этой планеты, не говоря уже о свойствах облаков.
Но в 1983 году проект закрыли волевым решением, и у меня с этим связана своего рода психологическая травма – три года жизни впустую!
Причем проект существовал не только на бумаге, успели частично изготовить аппаратуру, элементы конструкции и сам зонд. У миссии еще не было официального названия, между собой мы называли ее «Монгольфьер на Венеру».
На смену пришел проект «Вега» с целью полета к комете Галлея, которая в 1986 году сближалась с Солнцем, а по пути пролетала у Венеры. Зонды «Вега» доставили на Венеру посадочные аппараты и небольшие аэростаты, несопоставимые по размерам и научным задачам с оригинальным «Монгольфьером».
– Почему СССР в основном исследовал Венеру, а США – Марс?
– Думаю, так сложилось исторически. Нас изначально привлекала загадочная Венера, о которой мы знали меньше, чем о Марсе, который гораздо более доступен наземным астрономическим наблюдениям. Возможно, на ситуацию повлияли наши успешные полеты к Венере и не совсем успешные – к Марсу. Может быть, американцы решили в связи с этим противопоставить свою научную планетную программу нашей.
Но вполне вероятно, что Марс был им просто интереснее, хотя бы с точки зрения поиска следов жизни. Для науки такое разделение, вообще говоря, вполне позитивно – в итоге изучались обе планеты, ученые обменивались данными. Подчеркну, что почти все, что мы сегодня знаем о Венере, было получено нами в 1960-1980-е годы, и это золотой век отечественных космических исследований. С распадом СССР страна утратила эти уникальные возможности.
– Говоря о космической гонке: известно, что СССР планировал собственную пилотируемую посадку на Луну, и вы тоже работали в этом направлении. Почему полет был отменен после успешных миссий «Аполлонов»?
– Должен сказать, что моя роль в лунной программе, особенно пилотируемой, невелика. Мой основной вклад – в создание лунных посадочных аппаратов-роботов. Но на первых порах Келдыш делегировал меня в специальную комиссию, которая определяла готовность кораблей и космонавтов к запускам. Ее возглавлял генерал Каманин, членом комиссии был Гагарин. Я отвечал за радиационную обстановку, связанную с солнечной активностью. На Солнце периодически возникают вспышки, сопровождаемые выбросами опасных для людей доз радиации. Поэтому предсказание появления таких вспышек является определяющим фактором при выборе безопасного окна запуска космонавтов. С этой целью я часто летал в Крымскую астрофизическую обсерваторию, где вместе с астрономами на Большом Солнечном Телескопе (БСТ) составлялись соответствующие прогнозы.
Что касается лунной гонки, то это несравнимо более сложный вопрос, обсуждение которого далеко выходит за рамки данного интервью. У меня есть субъективное мнение, почему высадка советских космонавтов на Луну не состоялась.
Я верю в роль личности в истории, и, если бы в 1966 году не умер Королев, мы бы были на Луне. Я считаю эту причину главной, ведь никто не мог с ним сравниться ни по таланту, ни по организационным способностям, ни по авторитету.
Вторая причина – это не вполне адекватные технические решения при создании сверхтяжелой ракеты Н-1. Четыре пуска оказались аварийными, хотя не все было потеряно, ракету, наверное, можно было доработать. В-третьих, сыграла роль недальновидность руководства страны: не было принято технически обоснованного решения облететь Луну, запустив готовый корабль ЛОК с космонавтами на челомеевской ракете, УР-500, доказавшей свою надежность. К этому добавлю, что состязание за высадку первого человека на Луну нужно рассматривать в контексте пилотируемой и робототехнической программ. Успешный автоматический возврат на Землю лунного грунта, высадка луноходов, значительно ослабили эффект программы «Аполлон». И тем не менее, наш проигрыш американцам мы глубоко переживали, особенно это касалось космонавтов, со многими из которых меня связывали дружеские отношения.
Наконец, о закрытии нашей пилотируемой лунной программы. Здесь чисто политические причины. В середине 1970-х годов, вскоре после того, как американцы приняли решение завершить программу «Аполлон», мы сделали то же самое. Дело в том, что в основе лунной гонки лежали прежде всего политические амбиции, и этого никто не скрывал. А поскольку мы не достигли главной цели, не были первыми в высадке человека на Луну, исчезла главная мотивация для продолжения программы.
– Несмотря на космическую гонку с США, СССР не послал ни одной миссии во внешнюю Солнечную систему, к Юпитеру, Сатурну и другим планетам-гигантам. Вы знаете, почему так вышло?
– Конечно, знаю, и ответ очень простой.
Мы сильно отставали в электронике, в создании микросхем. Долговечность и ресурс наших электронных приборов были несравнимы с американскими. А для того, чтобы достичь хотя бы ближайшей из планет-гигантов, Юпитера, требуется не менее пяти лет, в то время как ресурс наших приборов ограничивался тогда полутора-двумя годами.
Мне очень хотелось организовать подобную миссию, воспользовавшись уникальны расположением планет во внешних областях Солнечной системы — Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Мы могли совершить пролет вблизи них одним аппаратом с минимальными затратами топлива. Такое расположение планет повторяется примерно раз в 150 лет. Проект получил название «Гранд Тур», и я активно агитировал за него Бабакина. Однако для его осуществления зонд должен функционировать 11-12 лет, чего мы позволить себе тогда не могли. А американцы запустили в 1976 году (на сайте NASA указан1977 год — «Газета.Ru») по этой схеме два аппарата «Вояджер», которые выполнили поставленную задачу. Кстати, оба вышли в межзвездную среду, а один из них до сих пор работает и передает научные данные.
– Каким было ваше самое яркое впечатление за годы исследования космоса?
– Таких впечатлений было много. Но, пожалуй, самое яркое — это 1975 год, Центр управления полетом в Евпатории, момент, когда наши два аппарата нового поколения, «Венера-9» и «Венера-10», совершают посадку на планету. Оба снабжены специальными телефотометрами для съемки панорам поверхности. Мы с моим коллегой и другом, разработчиком этих приборов Арнольдом Селивановым, стоим в специальной комнате, около самописца, и ждем появления сигнала.
Самописец, очень примитивный по тем временам прибор, вдруг начинает жужжать и из него выползает влажная бумага с какими-то неясными очертаниями. И только внимательно присмотревшись, мы вдруг осознаем, что это ландшафт Венеры. Мы стоим с открытыми ртами. Арнольд толкает меня и говорит: «Миш, а ты понимаешь, что кроме нас с тобой этого никто в мире пока еще не видел?» Это было настоящее счастье первооткрывателя и, наверное, одно из самых сильных впечатлений в жизни.
По сообщению сайта Газета.ru